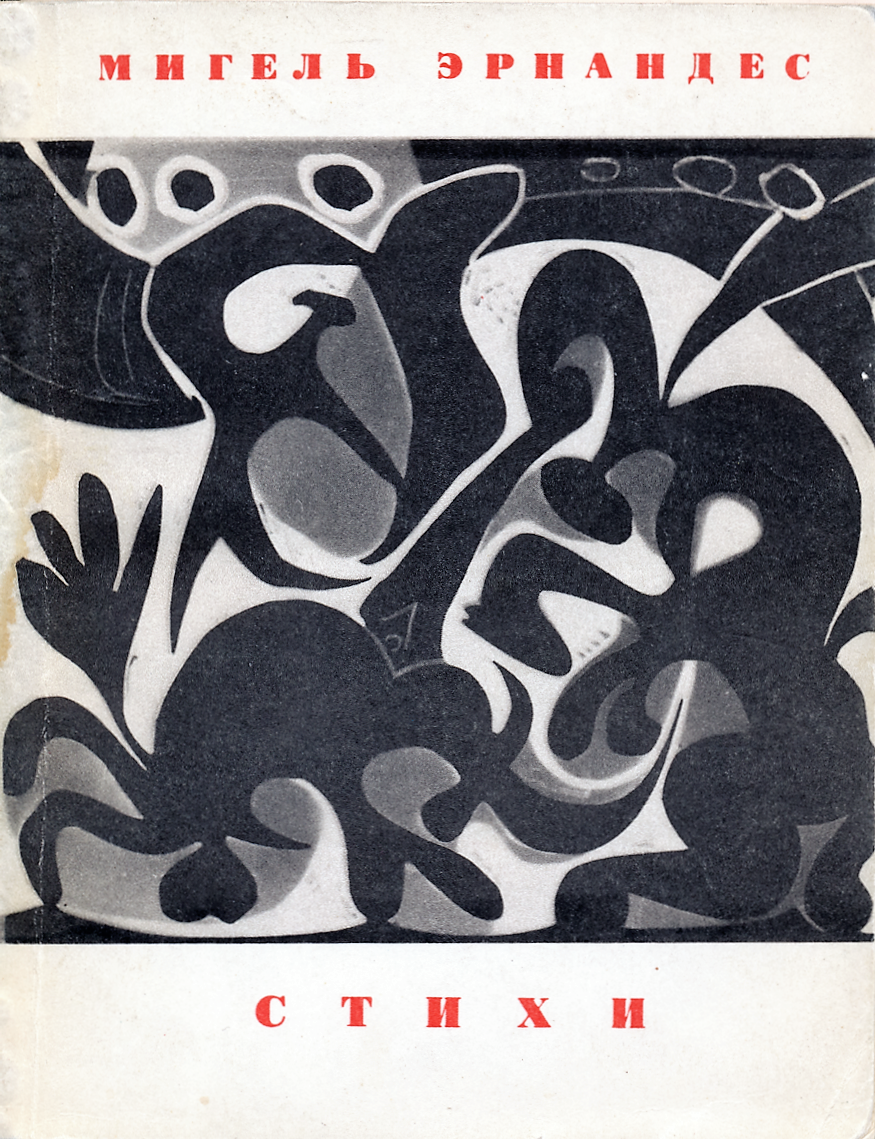 |
ОБРУШИЛСЯ С НЕБА ПОТОК ДОЛГОЖДАННЫЙ
Обрушился с неба поток долгожданный, и пашня его приняла, как спасенье, и мир, осчастливленный ливнем весенним, сподобился вновь чистоты первозданной.
И ожили разом леса, и поляны, И рощи под новорождённую сенью. Как ладан, течёт аромат воскресенья, И ветви и борозды – благоуханны.
Дыханье весны изумрудно-зелёной Пьянит, как настойка душистая вишни. И взгляд хлебопашца, угрюмый вначале,
Согрет теплотою земли обновлённой. Любовь моя! Волею неба всевышней К нам радость приходит на смену печали.
* * *
Вот лилия, проснувшись на холме, свершила сокровенное усилье – и распахнулись ангельские крылья, слепящие, как молния во тьме.
А это значит, что конец зиме, – и благодатных соков изобилье повелевает, чтобы все любили, и все сплелось в весенней кутерьме.
И все живое, в поле или в чаще, находит пару: к самке льнет самец, Лишь я стою один, завороженный,
средь нежных колокольчиков, звучащих, как поцелуи, и среди овец, настороженно-чутких, словно жёны.
* * *
Спасибо сестра, за усердье, с которым ты гонишь печали, как снадобье хворость. Но мне не нужна светоносная прорезь – пусть наглухо будут задёрнуты шторы.
Пусть наглухо будут задёрнуты шторы над клеткой, где, с утренним светом рассорясь, голодная птица клюёт свою горесть. Ты прорезь улыбки мне даришь не в пору.
В день плача, сестра, не приемлю я смеха. Ответа не будет – напрасны старанья. Не мне веселиться, на мир этот глядя.
Скорбящему сердцу улыбка – помеха, она точно соль на растравленной ране... Сестра, убери её господа ради.
* * *
Как муравьи в своей смиренной доле влачат ярмо работы кропотливой, натруженные жилы терпеливо несут мое желанье — сгусток боли.
Я чую смерть, и жизнь моя — неволя, когда перед глазами это диво – грудь возносящаяся горделиво, с дыханьем колосящегося поля.
Как мертвецу последняя обитель, ты мне пришлась, любовь, и я немею перед тобою, как перед святыней.
Своей голодной крови повелитель, я точно раб, в пустыню брошен ею, – Да, нет песков, но схвачен я пустыней.
* * *
Ты золотой лимон издалека мне бросила, и в миг какой-то краткий я ощутил, как горечь стала сладкой, – так сладостна была твоя рука.
В моей крови недвижность столбняка сменилась воспаленной лихорадкой, и губы тотчас вспомнили украдкой вкус нежно-золотистого соска.
Но улыбнулась ты, и так чужда была твоя улыбка вожделенью, что обернулось все лимонной шуткой.
Безумья не осталось и следа, и, убаюкана унылой ленью, уснула кровь моя под кожей чуткой.
* * *
Как в саду тебя увижу я в колыханье мартовского цвета, так и закипает песня эта рокотом нежнейшим соловья.
Рокотом нежнейшим соловья, может обольщу тебя до лета, а потом глядишь, в июне где-то свяжет горло мне любовь твоя.
Я гигант в сравнении с тобой, и тебе, наверно, не поднять яблоко, которым я играю.
А сейчас бреду твоей тропой и, не зная, как тебя обнять, капелькой дрожащей замираю.
* * *
Я знаю посвист. Не восторгом чистым тот свист исторгнут, а неразделенной любовью, или раной воспаленной, или тоской безмолвной в поле мглистом.
Так соловей на дереве ветвистом подруги не найдя в глуши зеленой, как в лихорадке бьется и, влюбленный, захлебывается горячим свистом.
А горлинка тревожно суетится в холодной тишине, потом в забвенье поет, выводит жалобно повторы...
И я печально-одинокой птицей свищу в безмерном и безумном рвенье, и глухо внемлют мне немые горы.
* * *
В каком-нибудь селении высокий бук или дуб, а может, альгарробо – тот, что подарит доски мне для гроба, – давно стоит, как сторож одинокий.
А может быть, свершился срок жестокий, и ствол крушит пилы визжащей злоба, и вот земная дрогнула утроба – упал мертвец, хранящий жизни соки.
А может, деревянная обнова уже кроится мне и подытожит мне скоро все итоги древесина...
А темная земля всегда готова (наверняка, без всяких там "быть может") принять последнее дыханье сына.
Из книги "Неугасимый луч", 1936 г.
* * *
Когда этот луч перестанет струиться, терзая мне грудь, где во мраке скрываются злые причуды, где звери рычат и ржавеют чистейшие руды? За что этот луч меня мучает, сердце пронзая?
Тот луч – сталактита разящего грива косая, он пламя и меч, что меня настигают повсюду. Когда отлучен от луча и от муки я буду? Зачем этот луч излучается, не угасая?
Со мной зарожден, стал он болью моей изначальной; его не забуду, покуда не встречусь с могилой; во мне коренясь, на меня же направил он бивень.
И нету исхода, и участи нету печальней, И будет упорно, все с той же неистовой силой, пронизывать душу мою сталактитовый ливень.
* * *
Как бык, порожден я для боли, и жгучим клеймящим железом, как бык, я отмечен. Мой бок несводимым тавром изувечен, мой пах наделен плодородьем могучим.
Как бык, не владею я сердцем гремучим, огромное сердце измерить мне нечем. Твой лик воссиял. Поединок извечен. Я бьюсь за любовь твою, жаждою мучим.
Как бык, беспощадно я взыскан судьбою, и в пене кровавой язык мой клокочет, и грузный загривок взметен в разъяренье.
Как бык, за дразнящей гонюсь я тобою, и шпага насмешки пронзить меня хочет. Я бык, я растравленный бык на арене.
* * *
Проходят по тропинке сокровенной Крестьяне, совершая круг свой тесный, Их кровь гудит под тяжестью отвесной – Под грузом зим и вёсен, рвущих вены.
Так, через труд вседневный, неизменный они приходят к поцелую, к песне, и жадно впитывает воздух пресный земную соль, мужицкий пот священный.
А я иду один своей дорогой, и не приводит к счастью путь мой длинный, и не разводит он меня с тоскою...
Под сводом лба заплакал круторогий бык одинокий на краю долины, забыв про естество свое мужское.
* * *
Смерть в бычьей шкуре движется слепая; рога и раны — вот ее обличье; корриды упоительной добыча, она пасется, тяжело ступая.
Звериный рев разносится, вскипая любовью непомерной, жгучей, бычьей; ей все земное обнимать в обычай, кровь пастухов убитых искупая.
Бери мой луг, несытый зверь влюбленный, – мою живую душу, горький плод мой, коль горечи отведать захотелось.
Как ты, измучен я неутоленной любовью ко всему, глухой, бесплодной, и сердце скорбным саваном оделось.
Из книги "Ветер народа", 1937 г.
* * *
Любовь взошла над нашими телами луной, околдовавшею две пальмы, которым кроны сдвинуть не дано.
Двух тел горячих сокровенный шепот звучал нежнее песни колыбельной. Потом сменился он недужным хрипом, и губы замерли, окаменев.
Нам плоть изъела судорога страсти, И кости просверлило нам желанье; Но лишь соприкоснулись наши руки – оцепенение сошло на них.
Луною прокатилась между нами любовь, испепелившая два тела; два призрака остались одиноких, и не дано соединиться им.
* * *
Пляшет холодный пепел под неумолчный вой в комнате, где когда-то слышал я голос твой.
Пепельная каморка и одинокий зов осатаневшего ветра — вместо двух голосов.
Мёртвый портрет в простенке. В зеркале – пустота. Серый комочек платья. Брошенная тахта.
Пепелище любви ветер терзает злой, ночью ворвавшись в щели и шевеля золой.
